Николай Коляда: «Драматург — это ухо, а театр — не место, где врут»


Он раскрывает главный секрет своих пьес: как заманить зрителя в ловушку смеха, чтобы потом ошеломить его беспощадной, но полной сострадания правдой.
Есть имена, которые сами по себе — целый театр. Николай Коляда — одно
из таких. Его называют уральским самородком а его пьесы, которых уже больше 150, давно стали голосом «маленького человека» по всему миру. Это
всегда обнаженный нерв, беспощадная, но полная сострадания правда, рассказанная с такой ошеломляющей искренностью, что от нее невозможно спрятаться. Наш разговор с мастером — это попытка понять, откуда берется этот свет в его порой совсем не светлых историях. О музыке, что звучит громче
повседневной суеты; об усталости от фальши, которая заставила его создать свой, предельно честный театр; и о простом, как материнский наказ, убеждении: хороших людей все равно больше.
• «КАКОЙ СПЕКТАКЛЬ РЕПЕТИРУЮ, ТАКАЯ МУЗЫКА И ЗВУЧИТ»
— «Секрет писательства заключается в вечной и невольной музыке в душе», — часто цитируете вы Василия Розанова. Какая музыка звучит в вашей душе сегодня? Похожа ли она на ту самую «Вдоль по Питерской», которую вы пели на вступительных экзаменах 50 лет назад?
— Нет, та музыка уже не звучит, прошло уже 53 года. Сейчас звучат мелодии из
моих спектаклей чаще всего: «Порушка-Параня», мелодия из фильма «Блеф»…
Вот я сейчас репетирую спектакль по своей пьесе «Сарафанное радио», и то, с чем там работаю, — звучит у меня каждый день, потому что мне надо это вместе с балетмейстером собирать в кучку. Какая погода на дворе, какой спектакль репетирую, такая музыка и звучит.
— Для своих спектаклей музыкальный материал вы отбираете сами?
— Да, сам! Я очень часто сам и танцы ставлю. В последнее время стал привлекать Елену Коротаеву, очень хорошего балетмейстера, начал привлекать Льва Низами, очень хорошего художника. Но раньше все делал всегда сам. С музыкой — всегда точно сам. И знаете, не от хорошей жизни, а оттого, что
просто денег нет. Условия частного театра: надо экономить каждую копеечку. Приходится на таком экономить и думать, как бы выдать зарплату артистам.
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОЛЯДА родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Ленинского района Кустанайской области Казахской ССР, ныне Республика Казахстан,
в семье работников совхоза. Окончил в 1977 году Свердловское театральное училище, в 1989 году отделение прозы в московском Литературном институте им. А.М. Горького. Первый рассказ «Склизко!» был опубликован в газете «Уральский рабочий» в 1982 году. Написал более 150 работ, руководит и играет в собственном «Коляда-театре». Организатор фестиваля «Коляда-Plays» с 1994 года.
• О СЧАСТЬЕ — ПЕРВОМ И НЫНЕШНЕМ
— В одном из интервью вы вспоминали, как, увидев свой первый напечатанный рассказ в газете «Уральский рабочий», испытали «немыслимое счастье». Спустя годы есть ли что-то, что вызывает у вас такое же чистое, острое ощущение радости?
— Сейчас счастье или ощущение какой-то большой радости могут вызвать удачи моих артистов или моих студентов. Когда спектакль получается, когда у них что-то получается, я просто радуюсь до невозможности. А так, у самого себя, чтобы меня чтото сильно порадовало… ну, слушайте, я вменяемый человек. Напишешь пьесу — от этого не радуешься и не прыгаешь до потолка.
Если сейчас напечатают мою пьесу в каком-то журнале, это не вызывает такого счастья. Тогда я был молодой, это было впервые. Конечно, первая публикация в «Уральском рабочем» — счастье было немыслимое. Спасибо, светлая память, Юлии Константиновне Матафоновой, которая работала там в отделе культуры. К ней попал в руки мой рассказ, и она много обо мне
писала, даже книгу написала. Она и критиком хорошим была, добрым. Смотрела
наши сложные спектакли и всегда писала с большим уважением.

• «Я УСТАЛ ОТ ЛЖИ В ТЕАТРЕ»
— Ваши ранние пьесы, такие как «Барак» или «Хрущевка», описывают жизнь «маленького человека» в суровой, порой жестокой реальности. Эта эстетика —творческий метод или отражение личного, пережитого опыта?
— Дело в том, почему театр был создан… Я в театре с 15 лет и ужасно устал от всего фальшивого, неправдивого. Устал от лжи в театре, от лжи в жизни соответственно. Поэтому я создал театр, в котором сказал: «Врать не будем. Здесь все по правде, все как в жизни». А жизнь наша, если выглянуть
в окно, пройтись по улице или сесть в трамвай, она тяжелая. Людям очень сложно жить: и деньги зарабатывать тяжело, и детей воспитывать тяжело, все время что-то давит на человека простого. И мне хочется рассказывать только правду, говорить о том, как сложно маленькому человеку живется в провинции. Некоторые меня обвиняют в «чернухе». Никакая это не «чернуха», а правда жизни, такой, какой я ее вижу. Не сгущая краски, а пытаюсь зафиксировать
нынешний мир. Он, конечно, прекрасен — природа прекрасна, кошки прекрасны — но вместе с тем иногда становится так тяжко.

• СМЕХ КАК АНЕСТЕЗИЯ ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ НА ДУШЕ
— Вы утверждаете, что до середины пьесы всё должно быть «дико смешно», чтобы потом «уколоть в сердце». Смех — это анестезия перед операцией на душе?
— Может быть, и анестезия. А может, для того, чтобы завлечь публику в какую-то сеть, в какие-то тенеты. Чтобы люди расслабились, думали: «Да это шутка, баловство какое-то, поржем, поржем, поржем…», а потом вдруг что-то происходит, и оказывается, это была не шутка. Это все всерьез. Посмотрите
на «Ревизора» Гоголя. Как это дико смешно до тех пор, пока не уезжает Хлестаков. Когда весь город понял, что их какой-то прощелыга, какой-то фитюлька обманул, становится жалко этих людей. Думаешь: «Господи, как
же вы живете в какой-то миргородской луже, совсем не видя белого света». Вот идеальная пьеса, где есть все: завязка, развязка, кульминация. Без знания психологии публики ты не драматург. Ты должен знать: ага, здесь
они посмеются, тут они поплачут, тут они замолкнут, а тут они уснут, если будет длинный монолог или скучно.
— Но поколения меняются, восприятие зрителя тоже. Вам удается улавливать эти изменения в «воздухе»?
— Конечно! А как же? Драматург — это ухо. Слушать, в первую очередь, речь, как она меняется. В 90-е годы была одна, сейчас — другая. Услышать речь, зафиксировать ее. Для писателя, для драматурга это очень важно. Если ты ловишь то, что происходит в воздухе, и отражаешь в пьесе, это находит отклик
в зрительном зале. Это очень-очень важно. Потому что, если стенка возникнет между публикой и тобой, ничего не получится.
Более 150 пьес за свою жизнь написал уральский драматург и режиссер Николай Коляда. По многим из них поставлены спектакли в разных театрах России, ближнего и дальнего зарубежья. Многие пьесы переведены на десятки языков.
• «ПРО ВДОХНОВЕНИЕ Я НЕ ГОВОРЮ»
— Вы написали более 150 пьес. Откуда такой невероятный творческий темп?
— Понимаете, я ничего другого не умею. Не умею зарабатывать деньги иначе, кроме как писанием пьес. Я знаю, что делаю это хорошо. Если у меня нет денег, я сажусь и пишу. Я знаю, где нажать на глазные яблоки, где пощекотать публику. Я знаю, что эту пьесу поставят, а стало быть, я заработаю. Про никакое вдохновение я не говорю, у меня вдохновения не бывает. Это моя работа: сел да написал. Мне нравится, я люблю, когда ты закроешься в своей квартире или на даче и уйдешь в какой-то мир выдуманныхфантазий. Мне это ужасно нравится.
— Ваши пьесы показывают жизнь без прикрас. Считаете ли вы, что театр должен быть только зеркалом общества, или он должен создавать и идеалы, к которым можно стремиться?
— Надо отражать жизнь такой, какая она есть. Но нельзя, чтобы публика выходила из зрительного зала раздавленной. Нет. Все равно писатель должен подарить какую-то надежду в конце. Как сказал Пушкин: «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». Все-таки подарить надежду, подарить
какой-то зеленый росточек, который растет из асфальта, несмотря ни на что, — это надо обязательно. Без этого нельзя. Просто по башке бить, бить, бить публику… Люди скажут: «Да я больше к тебе не приду никогда в жизни! Что же ты меня так расстраиваешь, я и так знаю, что у меня все плохо».

• «УПРЯМЫЙ КАК БАРАН»
— В своих интервью вы с такой теплотой вспоминаете Пресногорьковку, озеро, книжный шкаф. Этот контраст пресного и соленого, который заложен в самой географии вашей малой родины, стал ли для вас своего рода творческим принципом — соединять в спектаклях горькое и светлое, комедию и трагедию?
— Жизнь наша такая, у каждого человека, не только у меня. То пресная, то скучная, то не очень хорошая, то соленая, ядреная. У каждого
человека так. Как у зебры — то черное, то белое.
— Вы рассказывали, как в училище плакали за шторкой от насмешек, а потом выходили «злой». Это упрямое «ага, не дождетесь» стало вашим главным двигателем. А что было топливом для этого тогда, в 15 лет? Страх опозориться и вернуться в деревню? Или уже тогда вы чувствовали, что вам просто нельзя сдаваться — ради чего-то большего?
— Это не злость, наверное, называется, а, скорее, упрямство. Галина Борисовна
Волчек говорила про меня: «Упрямый как баран». Просто если я чего-то хочу сделать, я знаю, что это надо обязательно сделать, и я сделаю. Как бы меня ни расстраивали, что бы мне ни говорили. Мне говорят: «Не делай так», а я буду делать так, потому что я так хочу. Я могу расстроиться сколько угодно, но я все равно сделаю. Каждый раз, когда что-то случается, я не опускаю руки.
— Есть поговорка: «Мама говорила Орфею — пой, да не оглядывайся». Вы часто рассказываете, что следуете ей. Кто вас научил этой жизненной стойкости — идти своим путем, не сворачивая?
— Может быть, крестьянская закалка. Я крестьянский сын. От мамы с папой. Они были простыми людьми, но они были невероятно интеллигентными людьми. Я многому от них научился. Моя мама мне всегда говорила — сидит, вяжет носок: «Хороших людей все равно на белом свете больше». Это она, которая в своей жизни испытала столько… Я запомнил на всю жизнь, для меня это стало учебой: когда мы шли с ней по рынку в Кургане зимой, сидит какой-то
мальчишка на картонке, на снегу, и кричит: «Дай денег, дай денег!». Она полезла за кошельком, я говорю: «Мама, пошли, он врет!» — и утащил ее. Она вдруг тихо мне говорит: «Сынок, какой же ты стал злой». Я думал, я провалюсь от стыда. Сейчас вспоминаю — у меня мороз по коже. Думаю, Господи, какое твое дело? Ну, просит мальчишка у тебя денег, ну дай ты ему 10 рублей,
20 рублей, у тебя убудет, что ли?

• «ЖИЗНЬ ПИШЕТСЯ НА ЧИСТОВИК»
— Есть ли что-то, о чем вы сожалеете?
— Дак это ведь по Чехову, чем заканчиваются «Три сестры»? «Если бы знать, если бы знать…». Это же вечное сожаление любого человека, и русского, и не русского. Ах, если бы знать — соломки подстелить. Ах, если бы знать — начать все заново. Ах, если бы знать — с этим бы человеком не встречался. Ах, если
бы знать — этот поступок не совершил. Ах, если бы знать… Конечно, сожалею о многом, чего там можно было бы обойти и не делать. Сожалеешь о том, о другом, о пятом, о десятом. Но жизнь всегда пишется на чистовик, она не пишется на черновик. Ну куда денешься, такая жизнь.
— Вы так много пишете о человеке, погружаетесь в его судьбу, пороки, слабости. Какое человеческое качество, по-вашему, важнее всего в себе сберечь, несмотря ни на что?
— Порядочность. Прежде всего порядочность.
— О чем вы мечтаете?
— У меня мечты банальные и все одни и те же. Написать много хороших пьес, поставить много хороших спектаклей. Воспитать много хороших студентов. А что еще-то мне надо? Больше ничего и не надо.
ВЕШАЛКА, КОТОРАЯ УЧИТ ЖИТЬ
— У нас возле театра стоит вешалка: «Возьми, если нужно, оставь, если хочешь
помочь». Это смысл жизни любого человека, я думаю: если ты можешь другому
помочь и тебе это ничего не стоит, так дай ты эти деньги или эту тряпку. Тут дело в воспитании. Почему я люблю у себя ставить сказки? Потому что никто не знает, как в сердце маленького человека залетит вот эта птичка, которая воспитает его на всю жизнь. Что надо дружить, что надо любить маму, папу, надо любить школу, учителей. В каждой сказке обязательно есть что-то такое, что воспитывает.

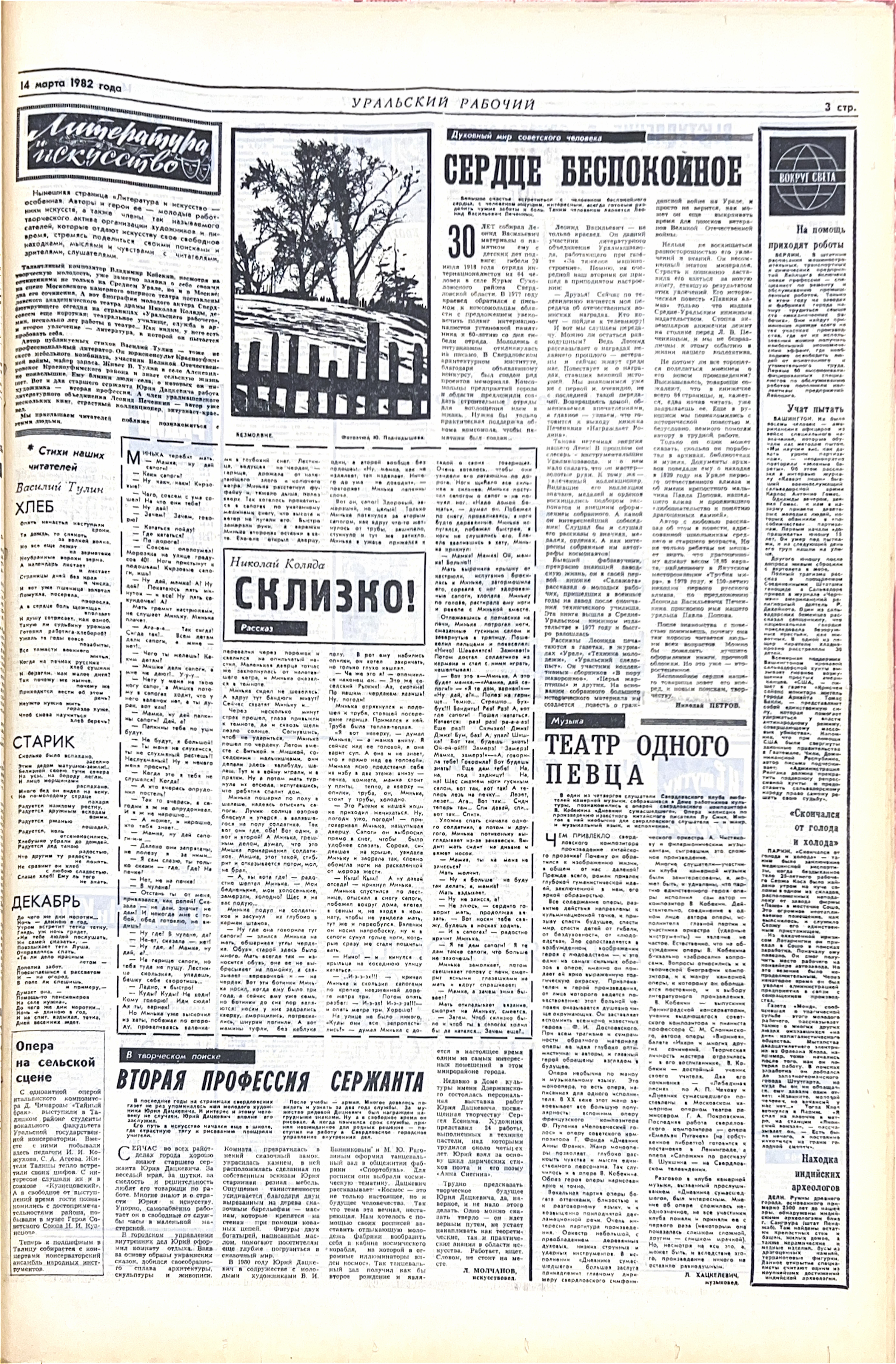 Первый рассказ драматурга «Склизко!» был опубликован в газете «Уральский рабочий» в 1982 году.
Первый рассказ драматурга «Склизко!» был опубликован в газете «Уральский рабочий» в 1982 году.



